(Начало ) Стихи Мандельштама «Армения» и очерк о Путешествии в Армению стали переломными в творчестве поэта: с Армении начинается поздний Мандельштам. В Советском Союзе поэта вновь начнут печатать только после двадцатилетнего забвения, но не в столице, а в республиканских центрах (Алма-Ате, Ереване, Тбилиси), где пальму первенства прочно удерживал Ереван.
Поездка Мандельштама в Армению в тридцатом году - это бегство, которое можно сравнить с бегством А.С.Пушкина в Арзрум. Поездка была долгожданной и вожделенной, к ней поэт готовился как к празднику, мечтая в дороге читать Зощенко, а на станциях - есть бутерброды с икрой. Он изучал армянский, историю и географию страны, зажатой между .
Все утро дней на окраине мира
Ты простояла, глотая слезы.
И отвернулась со стыдом и скорбью
От городов бородатых востока,
И вот лежишь на москательном ложе,
И с тебя снимают посмертную маску.
(Армения, 4. Октябрь-ноябрь 1930)
В истории Армении он видел собственную историю, это он был зажат между Западом и Востоком и с него снимают смертельную маску. Но все-таки, почему бегство? Последние десять лет жизни (1928-1938) для Мандельштама оказались годами мучительного поиска места и смысла существования в новой стране, эмигрировать из которой он принципиально отказался.
В советскую Россию поэт за восемь революционных лет так и не вписался, ощущая себя чужеродным китайцем, которого никто не понимает. Жить становилось все труднее, спасали переводы. Он их ненавидел, потому что изматывали, отвлекая от настоящего творчества.
От переводов поэт уходит в газету, но уход оборачивается еще худшим злом. Стихи не пишутся: после двадцать четвертого года - всего пять стихотворений, одно из которых уже предвещает нового Мандельштама.
Жизнь упала, как зарница,
Как в стакан воды ресница.
Изолгавшись на корню,
Никого я не виню...
(1925)
Пишет прозу, в которой остается верным парадоксальности, культурным и историческим параллелям. Желание культурно просвещать новых людей новой страны, делиться с ними культурными ценностями оказывается не востребованным. Появились нервные срывы, раздражительность, обидчивость, агрессивность. Началась травля. Он хочет убежать, скрыться от всего этого ужаса и непонимания.
Внутреннее напряжение и душевный разлад нарастают, но пока его еще печатают, он пользуется поддержкой Н.И.Бухарина. Последней точкой в нарастающем одиночестве и непонимании становится скандал с редактированием перевода книги "Тиль Уленшпигель", в которой по издательской ошибке напечатали его имя как переводчика, а не как редактора.
Скандал дал выход накопившемуся внутреннему раздражению, но в конечном итоге обернулся мощным поэтическим подъемом. После извинений поэта скандал начал было затухать, но газеты обвинили его в плагиате, начался новый виток травли. После долгих разбирательств и допросов, обвинения с поэта сняли, но моральную ответственность за случившееся возложили на него.
Из всей этой истории вырастет «Четвертая проза», побочной веточкой которой станет поэтический цикл «», а позднее и очерк о путешествии в эту страну. И в "Четвертой прозе" остается верен себе, находя аналогии случившемуся с ним в культуре прошлого, отождествляя себя с героем «Божественной комедии»:
«…на середине жизненной дороги я был остановлен в дремучем советском лесу разбойниками, которые назвались моими судьями….Первый и единственный раз я понадобился литературе и она меня мяла, лапала и тискала, и все было страшно, как в младенческом сне» («Четвертая проза»).
Чтобы замять скандал и чтобы Мандельштама оставили в покое, Бухарин выхлопотал своему подопечному командировку на Кавказ, куда поэт и отправляется весной 1930 года. Разрыв с официальной советской литературой, встреча с близкой по духу и культуре страной, внутреннее раскрепощение привели к поэтическому всплеску, сравнимому разве что с Болдинской осенью а.
В поездке Мандельштам понимает, что принадлежать к старой культурной традиции Тютчева и Верлена он уже не может, и выбирает роль разночинца, отщепенца, отверженного, юродивого, гонимого отовсюду иудея. К числу таких отверженных он относит Данте, , а и к ним же причисляет себя.
Чур, не просить, не жаловаться! Цыц!
Не хныкать —
для того ли разночинцы
Рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их предал?
Мы умрем как пехотинцы,
Но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи.
(«Полночь в Москве…». Май-4 июня 1931)
Начался отсчет новой традиции и новой поэзии, где Мандельштам отрекается от старого века-волка, новому веку-волкодаву не надо на него кидаться, потому что он – не волк, он принимает все, что произошло с веком и страной ради будущего.
Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей:
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей.
("За гремучую доблесть...". Март 1931)***
Пора вам знать, я тоже современник,
Я человек эпохи Москвошвея, —
Смотрите, как на мне топорщится пиджак,
Как я ступать и говорить умею!
Попробуйте меня от века оторвать, —
Ручаюсь вам — себе свернете шею.
(«Полночь в Москве…». Май-4 июня 1931)
Новые стихи Мандельштама открываются циклом «», ставшим, как и «Разговор с Данте», программой нового Мандельштама, разворачивающегося на восток и к иудейству. Если в молодости он был западником, не принимающим еврейскую замкнутость и отделенность от остального мира, то к началу тридцатых вектор его мировоззрения резко разворачивается в противоположную сторону.
Именно в Армении он находит образы и смыслы, в которых присутствуют параллели не только с иудейской историей и географией, но и с его личной судьбой, теперь - отщепенца и изгоя. Армения его не обманула. Поэт нашел здесь то, что искал и остался бы здесь, если бы его не вызвали обратно в Москву.
Открывает армянский цикл стихов Мандельштама пролог, запрещенный цензурой к печати. И в потом в двенадцати небольших стихотворений поэт воспевает красоту Армению, сравнивая ее с наивным детским рисунком, с крылатым и грозным, но трудолюбивым быком, со львом, рисующим Армению в ярких желто-охряно-багряных красках, вспоминает ее историю, географию и зловещий армянский язык, где «каждое слово - скоба».
Государство орущих камней и щедро раздаривающего солнца, с булочником, играющим с хлебом в жмурки, со шербетом и нежным муслином лепестков роз, развалинами кафедрального собора, что около Эчмиадзина – духовного и культурного центра армян.
Мандельштам сравнивает с розой, которой холодно в снегу, потому ее окружают горы с огромными шапками снега. Здесь же он говорит о курдах, везущих на своих повозках головки сыра, примиривших в своей вере дьявола и бога, и о роскоши нищенского селенья, где звучит музыка воды. И в предпоследнем стихе, которое первоначально было заключительным, поэт с тоской говорит:
Я тебя никогда не увижу,
Близорукое армянское небо,
И уже не взгляну прищурясь
На дорожный шатер Арарата,
И уже никогда не раскрою
В библиотеке авторов гончарных
Прекрасной земли пустотелую книгу.
По которой учились первые люди.
(Армения, 11. Октябрь-ноябрь 1930)
Так крупными мазками Мандельштам создает образ прекрасной древней страны с ее необычной культурой и историей, страны, которая стоит также одиноко среди камней и гор, как и сам Мандельштам - среди чуждого ему окружения. Но на этом армянская тема не заканчивается, поэт возвращается к ней еще в нескольких стихах, самым страшным из которых является «Фаэтонщик».
Надежда Яковлевна Мандельштам вспоминает, что это была их последняя поездка. Осенью 1930 года они выехали из Еревана в сторону Нагорного Карабаха. Дорога шла мимо города Шуша. Жена поэта описывает ужасающую картину разгрома и резни, которая предстала перед их глазами.
Абсолютно пустой полностью разрушенный турками город, начинавшийся бесконечным кладбищем. Дома без крыш, дверей и окон, через которые видны разбитые печки, остатки мебели, сломанные перегородки и обрывки обоев. После резни все колодцы были забиты трупами, остатки жителей бежали из этого города смерти.
Увидев нескольких мусульман на базарной площади, они подумали, что это остатки тех самых убийц, которые вырезали жителей армянского города. Но на пользу им это не пошло: гноящиеся лица, нищета, грязные руки. Мандельштам сказал, что в Шуше то же самое, что и у нас, только здесь всё нагляднее.
Ночевать в пустом городе они не решились и отправились в Степанакерт, областной город Армении. Добраться туда можно было туда только на извозчике. На стоянке был один фаэтонщик – безносый и с закрывавшей лицо кожаной нашлепкой. Они не верили, что он довезет их, но деваться было некуда.
Стихи о фаэтонщике – это конкретно о дороге на Степанакерт, иносказательно и обобщенно - о том, что мы ничего никогда не знаем о тех, кто нас везет и от кого зависит наша судьба, о жизни и бесцельности бега.
На высоком перевале
В мусульманской стороне
Мы со смертью пировали —
Было страшно, как во сне.Нам попался фаэтонщик,
Пропеченный, как изюм,
Словно дьявола погонщик,
Односложен и угрюм.То гортанный крик араба,
То бессмысленное «цо», —
Словно розу или жабу,
Он берег свое лицо:Под кожевенною маской
Скрыв ужасные черты,
Он куда-то гнал коляску
До последней хрипоты.И пошли толчки, разгоны,
И не слезть было с горы —
Закружились фаэтоны,
Постоялые дворы...
Я очнулся: стой, приятель!
Я припомнил — черт возьми!
Это чумный председатель
Заблудился с лошадьми!Он безносой канителью
Правит, душу веселя,
Чтоб вертелась каруселью
Кисло-сладкая земля...Так, в Нагорном Карабахе,
В хищном городе Шуше
Я изведал эти страхи,
Соприродные душе.Сорок тысяч мертвых окон
Там видны со всех сторон
И труда бездушный кокон
На горах похоронен.И бесстыдно розовеют
Обнаженные дома,
А над ними неба мреет
Темно-синяя чума.
(Фаэтонщик. 12 июня 1931)
В послеармянских стихах Мандельштама смерть становится постоянным рефреном, присутствующим почти во всех последних стихах поэта.
Тина Гай

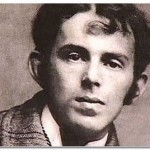











Согласна, у него была потребность в том, чтобы его согревал хоть кто-нибудь.
Немного теплого куриного помета
И бестолкового овечьего тепла;
Я все отдам за жизнь — мне так нужна забота —
И спичка серная меня б согреть могла.
Может быть, ему нужна была именно такая жена.
Я думаю, в из семье она была главой. Весь быт, все деловые контакты, все финансы — были на ней. Вот они и сошлись. Она — взрослая мама, а он — инфантильный ребёнок. А высшее образование она получила уже после смерти мужа, во время и после войны.
Вот и я о том. Жесткая была женщина, странная, никак у меня рядом с Мандельштамом не стоящая. Но м.б. противоположности сходятся? Я стараюсь не упоминать ее имени, жена поэта — и все. Хотя она была кандидатом наук, и видимо, неплохим специалистом. Хорошо, когда люди понимают друг друга и разговаривают на одном языке.
Тина, эта глава из Одоевцевой — одна из моих любимых. А мне, когда я читала воспоминания Надежды Мандельштам, помимо всего прочего, бросилась в глаза её жёсткость. Ведь у неё никаких сантиментов о детстве, о нянюшках-мамушках, а сразу о суровой жизни — об арестах, о слежке и доносах, ну и много о жизни и любви.
Ой, Оксана, не хотела я затрагивать Н.Я.. Читала давно, еще когда ее воспоминания только появились. Остался какой-то неприятный осадок. Наверное, если бы я их сейчас стала перечитывать, то по-другому посмотрела бы на них. Но желания перечитывать нет. Тоже много язвительного и злого. Это мне так вспоминается. Действительно женщина была неординарная, мягко говоря. Но она сделала очень много для сохранения памяти Мандельштама, за что ей низкий поклон. И он, как я понимаю, нуждался в ней, и любил по-своему, хотя и влюблялся в других женщин. У Ирины Одоевцевой в ее воспоминаниях описывается встреча ее мужа Георгия Иванова с Мандельштамом в Москве, вскоре после его женитьбы на Н.Я.:
«… расскажи лучше о себе, Осип. Как ты – счастлив?» Мандельштам не сразу ответил. «Так счастлив, что и в раю лучше быть не может. Да и какое глупое сравнение – рай. Я счастлив, счастлив, счастлив, – трижды, как заклинанье, громко произнес он и вдруг испуганно оглянулся через плечо в угол комнаты: – Знаешь, Жорж, я так счастлив, что за это, боюсь, придется заплатить. И дорого».
«Вздор, Осип. Ты уже заплатил сполна, и даже с процентами вперед. Довольно помучился. Теперь можешь до самой смерти наслаждаться. Верь мне». – «Ах, если бы! А то я часто боюсь. Ну а ты как? Вы оба как?» Оба – это значило Георгий Иванов и я. В сентябре 1921 года я вышла замуж за Георгия Иванова. Естественно, расспросам не было конца – расспросам о нас и рассказам о них с Надей… Надя… Надей… о Наде…
Шаги на лестнице. Мандельштам вытягивает шею и прислушивается с блаженно недоумевающим видом. «Это Надя. Она ходила за покупками, – говорит он изменившимся, потеплевшим голосом. – Ты ее сейчас увидишь. И поймешь меня». Дверь открывается. Но в комнату входит не жена Мандельштама, а молодой человек. В коричневом костюме. Коротко остриженный. С папиросой в зубах. Он решительно и быстро подходит к Георгию Иванову и протягивает ему руку.
«Здравствуйте, Жорж! Я вас сразу узнала. Ося вас правильно описал – блестящий санктпетербуржец». Георгий Иванов смотрит на нее растерянно, не зная, можно ли поцеловать протянутую руку. Он еще никогда не видел женщин в мужском костюме. В те дни это было совершенно немыслимо. Только через много лет Марлен Дитрих ввела моду на мужские костюмы. Но оказывается, первой женщиной в штанах была не она, а жена Мандельштама. Не Марлен Дитрих, а Надежда Мандельштам произвела революцию в женском гардеробе. Но, не в пример Марлен Дитрих, славы это ей не принесло. Ее смелое новаторство не было оценено ни Москвой, ни даже собственным мужем.
«Опять ты, Надя, мой костюм надела. Ведь я не ряжусь в твои платья? На что ты похожа? Стыд, позор, – набрасывается он на нее. И поворачивается к Георгию Иванову, ища у него поддержки. – Хоть бы ты, Жорж, убедил ее, что неприлично. Меня она не слушает. И снашивает мои костюмы». Она нетерпеливо дергает плечом: «Перестань, Ося, не устраивай супружеских сцен. А то Жорж подумает, что мы с тобой живем, как кошка с собакой. А ведь мы воркуем, как голубки – как «глиняные голубки»». Она кладет на стол сетку со всевозможными свертками. Нэп. И купить можно все что угодно. Были бы деньги. «Ну, вы тут наслаждайтесь дружеской встречей, а я пока обед приготовлю».
Жена Мандельштама, несмотря на обманчивую внешность, оказалась прекрасной и хлебосольной хозяйкой. За борщом и жарким последовал кофе со сладкими пирожками и домашним вареньем. «Это Надя все сама. Кто бы мог думать? – Он умиленно смотрит на жену. – Она все умеет. И такая аккуратная. Экономная. Я бы без нее пропал. Ах, как я ее люблю». Надя смущенно улыбается, накладывая ему варенья. «Брось, Ося, семейные восторги не интереснее супружеских сцен. Если бы мы не любили друг друга – не поженились бы. Ясно».
А как Вам «Воспоминания» Надежды Мандельштам? Тоже ведь женщина была неординарная!
Правда хороша, если она пишется с любовью. А голая правда без любви — это злая правда и говорит она больше об авторе, чем о том, кому предназначена. Вспомнила еще о воспоминаниях Юрия Анненкова, которые он написал в эмиграции. Они мне тоже нравятся, хотя не все, но в основном. Конечно, все поэты Серебряного века были людьми сложными, неоднозначными, все были со своими слабостями, но писать об этом можно по-разному. В связи с этим вспомнила «Роман без вранья» Мариенгофа, он пишет о Есенине, и не только, много нелицеприятного, но книга не оставляет ощущения злобной критики. Чувствуется, что он любит Есенина. Так умеют не все.
О, Тина, Ходасевич вообще был человеком желчным. «Тщедушный, болезненный, желчный человек, пользовавшийся в молодости большим успехом у женщин», как вспоминает о нём 3инаида Шаховская. Его «Некрополь» — это действительно недобрые воспоминания. Эту книгу В. Андреев назвал «злыми, удивительно меткими и неприятными воспоминаниями». В советской литературной энциклопедии «Некрополь» лишь мельком упоминается. Признание этой книги означало бы разрушение тщательно отредактированных биографий Горького, Брюсова, Белого и Блока, а также всей картины Серебряного века. Потому что он писал про всех правду, но очень одностороннюю.
Спасибо за информацию по Мандельштамам, и за ссылку. Мне этот текст на глаза не попался. Очень подробно и очень интересно, но можно запутаться кто от кого и куда.
_______________________________________________________________________
Про Ирину Одоевцеву. Мне очень нравятся ее мемуары и первая, и вторая часть, они обе у меня есть. Я обращаюсь к ним каждый раз, когда пишу о поэтах Серебряного века. Она очень хорошо, как-то по-человечески тепло пишет о них: и о Блоке, и о Мандельштаме, что о Кузмине, и о Гумилеве, и, конечно о Георгии Иванове. А вот воспоминаний Георгия Иванова не читала и даже не знала о них. И очень странно, что он ничего не пишет о своей жене. Нашла в Интернете и скачала его воспоминания «Петербургские зимы». Вот чьи воспоминания мне не очень нравятся — это №Некрополь» Ходасевича, Слишком критичен и как-то недобр.
Да, у меня тоже создается впечатление, что Армения просто оказалась брошенной. Очень жаль!!! Когда я только начала знакомиться с армянской культурой и залезла в Википедию, была просто огорошена тем обилием материала, какой выложен на этом популярном сайте. Мы, оказывается, ничего толком и не знаем об Армении. Она как-то оказалась между: и в религии (не совсем православная, и не совсем католическая, а сама по себе), и в географическом положении. Азербайджан, как я поняла, тоже осколок Армении, откушенный от нее, когда на нее обрушился турецкий геноцид. Грустно это…
Нет, это Мандельштам. Вот ссылки
.
Художник Александр Махов.
Кстати, Тина, первый портрет мне больше напоминает Бродского, чем Мандельштама… сомнения не дают мне покоя 😉
Вчера поздно ночью написала здесь большой коммент, но видать ночью инет спит, а не работает
Коротко о вчерашнем: в тяжелые, хмурые годы революций, войн, погромов и блокад, Армения читала стихи поэтов со всего мира про армян, Мандельштам был одним из первых, так нам было не одиноко, казалось нам что мы не брошены жертвами Молоху… видно только казалось…
«…вот, что мы узнаем от Майкла Станиславского о родственниках поэта с материнской стороны:
“Мать Евгения и Осипа, Флора Осиповна Вербловская, родилась в Вильно в еврейской семье, принадлежавшей к среднему классу, и таким образом, как и многие еврейские семьи в Вильно в поздние десятилетия XIX века, была руссифицирована. Вербловские были тесно связаны с кланом Венгеровых, который включал в себя первую женщину-еврейку в русско-еврейской истории, написавшую свою автобиографию, Паолину Венгерову, и ее более прославленных детей, известного историка русской литературы Семена Афанасьевича Венгерова (которого Мандельштам упомянул в “Шуме времени”. — Л.К.), Зинаиду Венгерова, литературного критика, и Изабеллу Венгерову, знаменитую пианистку, профессора фортепьяно в С.-Петербургской консерватории, а затем — в Куртиус-институте в Филадельфии. Через несколько браков Венгеровы были связаны с семьей Слонимских, которая восходит к двум первым ученым русской Хаскалы”
Взяла вот тут:
—————————————————————————-
Я тоже очень люблю мемуарную литературу 19 и начала 20 века, и если далеко не уходить от Мандельштама. то назову книгу Георгия Иванова «Петербургские зимы». Там и о Мандельштаме немало, но очень субъективно. И вот что интересно: если Одоевцева в своих воспоминаниях пишет довольно много об Иванове, то он, рассказывая о том же времени, о ней не упоминает ни разу!
«Шум времени» мне тоже очень нравится. Читала с удовольствием, особенно о Тенишевском училище и учителе словесности В.В.Гиппиус. Не будь у него такого учителя, мне кажется, что и Мандельштам бы не состоялся. Это еще раз о роли учителя в жизни человека. Только я так и не поняла, какого рода-племени была мать Мандельштама.
Но вообще воспоминания о тех временах мне всегда интересны. Для меня они остаются загадочными, как будто и не в России это было. И Петербург с точки зрения его населения — совсем другой город. Здания остались, а люди — люди словно переселились из другого мира. С таким же удовольствием читала воспоминания Д.С.Лихачева. С удивлением узнала о его дворянской жизни. Почему-то раньше меньше всего связывала его жизнь с дворянством. А когда прочитала его родословную, о которой он пишет в начале, то уже не удивлялась и тому, что с ним произошло потом: Соловки и прочее, и даже его интерес к Древней Руси — тоже не кажется случайным. И Мандельштам, и Лихачев были людьми из другого времени, но первый не смог вписаться в новое время, а второму это какими-то невероятными усилиями это удалось. Наверное, установка была разной. Но оба они не захотели эмигрировать, что мне лично импонирует.
Из прозы Мандельштама мне больше всего нравится «Шум времени». Так хорошо он там пишет о детстве, о семье. о своих ученических годах!
Спасибо больше за стихи. Я так хотела с кем-то пообщаться по поводу Мандельштама. Так сказать, сверить свои впечатления с впечатлениями другими. Любовная лирика да еще детские стихи — действительно прозрачны и ясны. Но вот потом… Нравится его прозе, особенно «Разговор с Данте». Но и поздние стихотворения тоже нравятся, но что-то шевелится внутри от них тяжелое и тягостное. Мне от них стали сниться страшилки, от которых просыпаюсь среди ночи и больше не могу уснуть.
Тина, просто я в этом году проводила у себя мероприятие о Мандельштаме, и поэтому немного «в теме». Для меня поэзия Мандельштама сложновата, исключая, быть может, его любовную лирику.
Марине Цветаевой было написано стихотворение «Нежнее нежного»:
Нежнее нежного
Лицо твоё,
Белее белого
Твоя рука,
От мира целого
Ты далека,
И всё твоё —
От неизбежного.
От неизбежного
Твоя печаль,
И пальцы рук
Неостывающих,
И тихий звук
Неунывающих
Речей,
И даль
Твоих очей.
Это — Саломее Андронниковой:
Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне
И ждёшь, бессонная, чтоб, важен и высок,
Спокойной тяжестью, — что может быть печальней,-
На веки чуткие спустился потолок,
Соломка звонкая, соломинка сухая,
Всю смерть ты выпила и сделалась нежней,
Сломалась милая соломка неживая,
Не Саломея, нет, соломинка скорей!
В часы бессонницы предметы тяжелее,
Как будто меньше их — такая тишина!
Мерцают в зеркале подушки, чуть белея,
И в круглом омуте кровать отражена.
Нет, не соломинка в торжественном атласе,
В огромной комнате над черною Невой,
Двенадцать месяцев поют о смертном часе,
Струится в воздухе лёд бледно-голубой.
Декабрь торжественный струит своё дыханье,
Как будто в комнате тяжёлая Нева.
Нет, не соломинка — Лигейя, умиранье, —
Я научился вам, блаженные слова.
Это — актрисе Ольге Арбениной:
За то, что я руки твои не сумел удержать,
За то, что я предал солёные нежные губы,
Я должен рассвета в дремучем Акрополе ждать.
Как я ненавижу пахучие, древние срубы!
Ахейские мужи во тьме снаряжают коня,
Зубчатыми пилами в стены вгрызаются крепко,
Никак не уляжется крови сухая возня,
И нет для тебя ни названья, ни звука, ни слепка.
Как мог я подумать, что ты возвратишься, как смел?
Зачем преждевременно я от тебя оторвался?
Еще не рассеялся мрак и петух не пропел,
Еще в древесину горячий топор не врезался.
Прозрачной слезой на стенах проступила смола,
И чувствует город свои деревянные рёбра,
Но хлынула к лестницам кровь и на приступ пошла,
И трижды приснился мужам соблазнительный образ.
Где милая Троя? Где царский, где девичий дом?
Он будет разрушен, высокий Приамов скворешник.
И падают стрелы сухим деревянным дождём,
И стрелы другие растут на земле, как орешник.
Последней звезды безболезненно гаснет укол,
И серою ласточкой утро в окно постучится,
И медленный день, как в соломе проснувшийся вол,
На стогнах, шершавых от долгого сна, шевелится.
Это — Ольге Ваксель:
Жизнь упала, как зарница,
Как в стакан воды ресница.
Изолгавшись на корню,
Никого я не виню…
Хочешь яблока ночного,
Сбитню свежего, крутого,
Хочешь, валенки сниму,
Как пушинку подниму.
Ангел в светлой паутине
В золотой стоит овчине,
Свет фонарного луча —
До высокого плеча.
Разве кошка, встрепенувшись,
Черным зайцем обернувшись,
Вдруг простёгивает путь,
Исчезая где-нибудь…
Как дрожала губ малина,
Как поила чаем сына,
Говорила наугад,
Ни к чему и невпопад.
Как нечаянно запнулась,
Изолгалась, улыбнулась —
Так, что вспыхнули черты
Неуклюжей красоты.
Есть за куколем дворцовым
И за кипенем садовым
Заресничная страна, —
Там ты будешь мне жена.
Выбрав валенки сухие
И тулупы золотые,
Взявшись за руки, вдвоём
Той же улицей пойдём,
Без оглядки, без помехи
На сияющие вехи —
От зари и до зари
Налитые фонари.
Это — высоко ценимое Анной Ахматовой — Марии Петровых:
Мастерица виноватых взоров,
Маленьких держательница плеч!
Усмирён мужской опасный норов,
Не звучит утопленница-речь.
Ходят рыбы, рдея плавниками,
Раздувая жабры: на, возьми!
Их, бесшумно охающих ртами,
Полухлебом плоти накорми.
Мы не рыбы красно-золотые,
Наш обычай сестринский таков:
В тёплом теле рёбрышки худые
И напрасный влажный блеск зрачков.
Маком бровки мечен путь опасный…
Что же мне, как янычару, люб
Этот крошечный, летуче-красный,
Этот жалкий полумесяц губ?..
Не серчай, турчанка дорогая:
Я с тобой в глухой мешок зашьюсь,
Твои речи тёмные глотая,
За тебя кривой воды напьюсь.
Ты, Мария,- гибнущим подмога,
Надо смерть предупредить — уснуть.
Я стою у твоего порога.
Уходи, уйди, ещё побудь.
И всё это при том, что Мандельштам очень любил свою жену.
Спасибо, Оксана. Я очень рада, что Вы откликнулись на эту тему. Я в Мандельштаме утонула. Было очень тяжело писать из-за обилия материала и из-за неоднозначности поэта. Действительно очень сложный и как человек, и как поэт. Ранний Мандельштам как-то попроще, пояснее, попонятней, а поздний — просто сносит крышу. У меня, по крайней мере. Решила остановиться и сделать паузу. Их всех поэтов, о которых писала, он для меня оказался самым тяжелым и для восприятия как человека, и для понимания как поэта. Ни Хармс, ни Хлебников не оставляли такой тяжести, как Мандельштам. Даже не могу объяснить, почему.
Что касается Армении, то да, тогда у него был жуткий конфликт. Читала «Четвертую прозу» и как-то все это мне не нравилось. Очень по-человечески, эмоционально и резко. Я вспомнила себя в конфликтных ситуациях. Сейчас мне неприятно вспоминать об этом, а здесь словно опять погрузилась в этот мир интеллигентских склок. Очень неприятно.
Осип Мандельштам был человеком сложным, конфликтным, обидчивым, влюбчивым (иначе не родились бы его прекрасные любовные стихи, посвящённые разным женщинам). Очень хорошо описывает его упомянутая Вами Ирина Одоевцева. Хоть её обычно не принимают всерьёз из-за необъективности. но мне лично её книги очень нравятся. Как замечательно она пишет и о Мандельштаме, и о Блоке. и о Белом, и особенно о Гумилёве.
А вот отъезд Мандельштама в Армению имел под собой и чисто бытовую причину — его конфликт с Алексеем Толстым.
Вообще, Мандельштам — это огромная тема. Множество интереснейших воспоминаний современников посвящены этому человеку.