Бродский начинается с «Большой элегии Джону Донну», написанной в возрасте двадцати трех лет. В сборнике "Остановка в пути" стоит дата написания стихотворения «7 марта 1963 год».
Тогда Бродский только-только начинал свой путь в поэзию. И так получилось - по чистой и счастливой случайности - ему попалось на глаза имя Джона Донна - в том самом к известной книге Хемингуэя.
Бродский рассказывает, что сначала подумал, что в фамилию вкралась ошибка – не Донн, а Донна, и что строчки взяты из стихотворения.
Только потом он узнал, что знаменитый эпиграф - это отрывок из книги «Обращение к Господу…», написанной во время страшной болезни Донна в 1623 году.
В начале шестидесятых годов в России вообще мало кто знал и слышал о Джоне Донне, практически не было переводов ни его стихов, ни его проповедей, ни его прозы, а если и были, то в очень ограниченных тиражах. Не говоря уже о том, чтобы читать его в подлиннике. Это потом стал переводчиком Донна, одним из лучших, и фактически – его учеником.
«Большая элегия...» вошла в первый сборник стихов, составленный самим Бродским и напечатанный за границей. Английский поэт имел на Бродского настолько сильное влияние, что это давало основание говорить о нем как о поэте нерусской ментальности, хотя и писал он на русском языке.
«Феномен Бродского вообще — загадка для нашей ментальности, нечто непонятное для нашей традиции. Как поэт он реализовался в русском языке, но он поэт не русский ни по духу, ни по голосоведению. Что-то ветхозаветное, пустынное, тысячелетнее. Длинные гибкие смысловые цепочки вносят в его стихи что-то английское. Он разрушает то пушкинское качество стиха, для нас фундаментальное, когда гармония либо дисгармония созидаются внутри слова, в “ядре слова”, в магии звучания слова, в его существовании» (Лев Аннинский)
Это действительно так. Знаю по себе: я долго ходила вокруг Бродского кругами, открывая и снова закрывая сборники его стихов в книжных магазинах. Чужое, не мое и никак не могла понять, почему его поэзия так зачаровывает и очаровывает, так много говорят о ней, почему ему дали Нобелевскую премию?.
Откладывала до следующего раза. Магия имени не срабатывала. До тех пор, пока не начала слушать, как он сам читает свои стихи. И поняла, почему не могла его принять – интонация. Я не улавливала его интонацию, которая и есть воздух поэзии Бродского, расставляющая по своим местам и смыслам сложную структуру стиха.
«Горловым усилием поэт обращает свой недостаток в достоинство. Не совладав со словом, он воет как оглашенный. Он преследует слово голосом, и эта интонационная погоня за словом и есть смысл поэзии Бродского»
Бросался в глаза непривычный строй стиха: ломаный, с бесконечными длящимися переносами, с акцентами не в тех местах, со странными метафорами и совсем негладкой структурой и строфой не в четыре строки, а в шесть, восемь, десять, двенадцать.
Количество таких строф после знакомства с Джоном Донном у Бродского резко возрастает. Окончательно понимание мной Бродского пришло только после знакомства с – только теперь мне стало ясно, откуда у Бродского не только интонация, но и все остальное.
И это не подражание, а просто жизнь в другой поэтической традиции. Поэтому, конечно, «Большая элегия ...» - это то, с чего Бродский вообще начинается как поэт, которого часто называют русским Джоном Донном. И в этом стихотворении действительно очень много перекличек с английским поэтом.
«Большая элегия...» состоит из 208 строк, разбитых на две больших смысловых части, которые заканчиваются своеобразным эпилогом. В нем самыми важными являются шестнадцать последних строк, закольцовывающие все стихотворение. Этот последний кусочек начинается теми же словами, какими начинается все стихотворение - «Уснуло всё».
Как у Джона Донна одна главная мысль-образ обыгрывается с разных сторон, так и в «Большой элегии...» с разных сторон обыгрывается образ сна/смерти, закольцовывая начало и конец стихотворения, но уже на другом смысловом уровне.
Сон/смерть навевается монотонностью перечислений, медитирующей и убаюкивающей интонацией, повторением слов «уснуло всё» с перечислением того, что входит в это «всё». Сон начинается с Джона Донна, потом постепенно, кругами, расходится от него, как от центра - на его вещи, комнату, окно. Выходит за окно, на близлежащие дома, улицы, город, страну, остров, море, кладбище...
Потом поднимается вверх, на небо, образуя воронку с широким основанием на земле и узким – к звездам. Спят обитатели неба: ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, святые и пророки, спит дьявол и спит Сам Бог. Первый круг завершен. И снова поэт возвращается к Джону Донну, но уже к внутренней жизни поэта, в котором уснули все стихи, все книги, речи.
И среди этой сонной тишины вдруг раздается тонкий, как игла, голосок. Что это? Начинается ряд вопросов из двадцати четырех строк: не ты ли, ангел; не ты ли, Павел; не ты ли херувим; не ты ли Гавриил; не ты ли, Господь…?
И снова возврат к Джону Донну, уже в третий раз, и опять с новой стороны: это плачет его душа. Начинается вторая часть «Большой элегии...» - исповедь одинокой души, которая все понимает и все видит:
и тот остров, о котором Джон Донн говорил , и колокольный звон, и ад, и рай, которые видел поэт, одинокий и забытый в своей келье.
Спит Джон Донн как подобие птиц, что усиливается троекратным повторением этих слов. И в конце все взрывается главной мыслью, которая ставит точку в этом печальном монологе поэта: умирает человек всегда один и встреча с Богом происходит тоже один на один. Это жизнь можно делить с кем-то, а умирает человек всегда в одиночку.
Так, начиная с частного перечисления вещей, Бродский восходит к небесному, заканчивая «Большую элегию...» о сне/смерти философской мыслью о смысле жизни человека, его экзистенциальном одиночестве, которое и есть его судьба.
Большая элегия Джону Донну
Джон Донн уснул, уснуло все вокруг.
Уснули стены, пол, постель, картины,
уснули стол, ковры, засовы, крюк,
весь гардероб, буфет, свеча, гардины.
Уснуло все. Бутыль, стакан, тазы,
хлеб, хлебный нож, фарфор, хрусталь, посуда,
ночник, бельe, шкафы, стекло, часы,
ступеньки лестниц, двери. Ночь повсюду.
Повсюду ночь: в углах, в глазах, в белье,
среди бумаг, в столе, в готовой речи,
в ее словах, в дровах, в щипцах, в угле
остывшего камина, в каждой вещи.
В камзоле, башмаках, в чулках, в тенях,
за зеркалом, в кровати, в спинке стула,
опять в тазу, в распятьях, в простынях,
в метле у входа, в туфлях. Все уснуло.
Уснуло все. Окно. И снег в окне.
Соседней крыши белый скат. Как скатерть
ее конек. И весь квартал во сне,
разрезанный оконной рамой насмерть.
Уснули арки, стены, окна, всё.
Булыжники, торцы, решетки, клумбы.
Не вспыхнет свет, не скрипнет колесо...
Ограды, украшенья, цепи, тумбы.
Уснули двери, кольца, ручки, крюк,
замки, засовы, их ключи, запоры.
Нигде не слышен шепот, шорох, стук.
Лишь снег скрипит. Все спит. Рассвет не скоро.
Уснули тюрьмы, за'мки. Спят весы
средь рыбной лавки. Спят свиные туши.
Дома, задворки. Спят цепные псы.
В подвалах кошки спят, торчат их уши.
Спят мыши, люди. Лондон крепко спит.
Спит парусник в порту. Вода со снегом
под кузовом его во сне сипит,
сливаясь вдалеке с уснувшим небом.
Джон Донн уснул. И море вместе с ним.
И берег меловой уснул над морем.
Весь остров спит, объятый сном одним.
И каждый сад закрыт тройным запором.
Спят клены, сосны, грабы, пихты, ель.
Спят склоны гор, ручьи на склонах, тропы.
Лисицы, волк. Залез медведь в постель.
Наносит снег у входов нор сугробы.
И птицы спят. Не слышно пенья их.
Вороний крик не слышен, ночь, совиный
не слышен смех. Простор английский тих.
Звезда сверкает. Мышь идет с повинной.
Уснуло всё. Лежат в своих гробах
все мертвецы. Спокойно спят. В кроватях
живые спят в морях своих рубах.
По одиночке. Крепко. Спят в объятьях.
Уснуло всё. Спят реки, горы, лес.
Спят звери, птицы, мертвый мир, живое.
Лишь белый снег летит с ночных небес.
Но спят и там, у всех над головою.
Спят ангелы. Тревожный мир забыт
во сне святыми -- к их стыду святому.
Геенна спит и Рай прекрасный спит.
Никто не выйдет в этот час из дому.
Господь уснул. Земля сейчас чужда.
Глаза не видят, слух не внемлет боле.
И дьявол спит. И вместе с ним вражда
заснула на снегу в английском поле.
Спят всадники. Архангел спит с трубой.
И кони спят, во сне качаясь плавно.
И херувимы все -- одной толпой,
обнявшись, спят под сводом церкви Павла.
Джон Донн уснул. Уснули, спят стихи.
Все образы, все рифмы. Сильных, слабых
найти нельзя. Порок, тоска, грехи,
равно тихи, лежат в своих силлабах.
И каждый стих с другим, как близкий брат,
хоть шепчет другу друг: чуть-чуть подвинься.
Но каждый так далек от райских врат,
так беден, густ, так чист, что в них -- единство.
Все строки спят. Спит ямбов строгий свод.
Хореи спят, как стражи, слева, справа.
И спит виденье в них летейских вод.
И крепко спит за ним другое -- слава.
Спят беды все. Страданья крепко спят.
Пороки спят. Добро со злом обнялось.
Пророки спят. Белесый снегопад
в пространстве ищет черных пятен малость.
Уснуло всё. Спят крепко толпы книг.
Спят реки слов, покрыты льдом забвенья.
Спят речи все, со всею правдой в них.
Их цепи спят; чуть-чуть звенят их звенья.
Все крепко спят: святые, дьявол, Бог.
Их слуги злые. Их друзья. Их дети.
И только снег шуршит во тьме дорог.
И больше звуков нет на целом свете.Но чу! Ты слышишь -- там, в холодной тьме,
там кто-то плачет, кто-то шепчет в страхе.
Там кто-то предоставлен всей зиме.
И плачет он. Там кто-то есть во мраке.
Так тонок голос. Тонок, впрямь игла.
А нити нет... И он так одиноко
плывет в снегу. Повсюду холод, мгла...
Сшивая ночь с рассветом... Так высоко!
"Кто ж там рыдает? Ты ли, ангел мой,
возврата ждешь, под снегом ждешь, как лета,
любви моей?.. Во тьме идешь домой.
Не ты ль кричишь во мраке?" -- Нет ответа.
"Не вы ль там, херувимы? Грустный хор
напомнило мне этих слез звучанье.
Не вы ль решились спящий мой собор
покинуть вдруг? Не вы ль? Не вы ль?" -- Молчанье.
"Не ты ли, Павел? Правда, голос твой
уж слишком огрублен суровой речью.
Не ты ль поник во тьме седой главой
и плачешь там?" -- Но тишь летит навстречу.
"Не та ль во тьме прикрыла взор рука,
которая повсюду здесь маячит?
Не ты ль, Господь? Пусть мысль моя дика,
но слишком уж высокий голос плачет".
Молчанье. Тишь. -- "Не ты ли, Гавриил,
подул в трубу, а кто-то громко лает?
Но что ж лишь я один глаза открыл,
а всадники своих коней седлают.
Всё крепко спит. В объятьях крепкой тьмы.
А гончие уж мчат с небес толпою.
Не ты ли, Гавриил, среди зимы
рыдаешь тут, один, впотьмах, с трубою?""Нет, это я, твоя душа, Джон Донн.
Здесь я одна скорблю в небесной выси
о том, что создала своим трудом
тяжелые, как цепи, чувства, мысли.
Ты с этим грузом мог вершить полет
среди страстей, среди грехов, и выше.
Ты птицей был и видел свой народ
повсюду, весь, взлетал над скатом крыши.
Ты видел все моря, весь дальний край.
И Ад ты зрел -- в себе, а после -- в яви.
Ты видел также явно светлый Рай
в печальнейшей -- из всех страстей -- оправе.
Ты видел: жизнь, она как остров твой.
И с Океаном этим ты встречался:
со всех сторон лишь тьма, лишь тьма и вой.
Ты Бога облетел и вспять помчался.
Но этот груз тебя не пустит ввысь,
откуда этот мир -- лишь сотня башен
да ленты рек, и где, при взгляде вниз,
сей страшный суд совсем не страшен.
И климат там недвижен, в той стране.
Откуда всё, как сон больной в истоме.
Господь оттуда -- только свет в окне
туманной ночью в самом дальнем доме.
Поля бывают. Их не пашет плуг.
Года не пашет. И века не пашет.
Одни леса стоят стеной вокруг,
а только дождь в траве огромной пляшет.
Тот первый дровосек, чей тощий конь
вбежит туда, плутая в страхе чащей,
на сосну взлезши, вдруг узрит огонь
в своей долине, там, вдали лежащей.
Всё, всё вдали. А здесь неясный край.
Спокойный взгляд скользит по дальним крышам.
Здесь так светло. Не слышен псиный лай.
И колокольный звон совсем не слышен.
И он поймет, что всё -- вдали. К лесам
он лошадь повернет движеньем резким.
И тотчас вожжи, сани, ночь, он сам
и бедный конь -- всё станет сном библейским.
Ну, вот я плачу, плачу, нет пути.
Вернуться суждено мне в эти камни.
Нельзя прийти туда мне во плоти.
Лишь мертвой суждено взлететь туда мне.
Да, да, одной. Забыв тебя, мой свет,
в сырой земле, забыв навек, на муку
бесплодного желанья плыть вослед,
чтоб сшить своею плотью, сшить разлуку.
Но чу! пока я плачем твой ночлег
смущаю здесь, -- летит во тьму, не тает,
разлуку нашу здесь сшивая, снег,
и взад-вперед игла, игла летает.
Не я рыдаю -- плачешь ты, Джон Донн.
Лежишь один, и спит в шкафах посуда,
покуда снег летит на спящий дом,
покуда снег летит во тьму оттуда".Подобье птиц, он спит в своем гнезде,
свой чистый путь и жажду жизни лучшей
раз навсегда доверив той звезде,
которая сейчас закрыта тучей.
Подобье птиц. Душа его чиста,
а светский путь, хотя, должно быть, грешен,
естественней вороньего гнезда
над серою толпой пустых скворешен.
Подобье птиц, и он проснется днем.
Сейчас -- лежит под покрывалом белым,
покуда сшито снегом, сшито сном
пространство меж душой и спящим телом.
Уснуло всё. Но ждут еще конца
два-три стиха и скалят рот щербато,
что светская любовь -- лишь долг певца,
духовная любовь -- лишь плоть аббата.
На чье бы колесо сих вод не лить,
оно все тот же хлеб на свете мелет.
Ведь если можно с кем-то жизнь делить,
то кто же с нами нашу смерть разделит?
Дыра в сей ткани. Всяк, кто хочет, рвет.
Со всех концов. Уйдет. Вернется снова.
Еще рывок! И только небосвод
во мраке иногда берет иглу портного.
Спи, спи, Джон Донн. Усни, себя не мучь.
Кафтан дыряв, дыряв. Висит уныло.
Того гляди и выглянет из туч
Звезда, что столько лет твой мир хранила.
7 марта 1963
Тина Гай










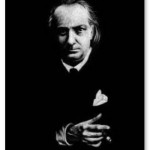


Это так!!!
Бродский — это целая эпоха, целая Вселенная мыслей.
Андрей, образность по-моему, есть у большинства детей. Только с годами и под влиянием воспитания и жизненных неудач она куда-то улетучивается. А потом ее очень хочется обрести снова. Но это не так-то просто сделать. Бродский, как мне видится, прежде всего, поэт. Отсюда и его система координат. Хотя логического мышления у него тоже хватает, как и у Джона Донна, с которого он писал свои узоры. Гештальтисты, как мне кажется, всегда «образники». Они же воспринимают ситуацию целиком, а не по логическим составляющим. Или я не права?
Так ведь образности нам и не хватает! Мы же к логике стремимся? А у Бродского на первом месте ощущения! Возможно и эмоции. А так чувства и совсем обман!
Я читал его!
Да. Трудно.
Но мне понятно почему.
А потому, что я правильным стараюсь быть, несмотря даже и на свой гештальт.))
Так мы чего хотим? Что-то осмыслить что-то или во что-то окунуться своим непосредственным восприятием?
Да, читать Бродского действительно труд. Как и Джона Донна.
Тут мы кажется сходимся вполне…, вообще читать Бродского — труд….