Александр Григорьевич Тышлер - уникальный русский художник. Он родился за два года до начала страшного и головокружительного по своим умопомрачительным поворотам XX века, умер, не дожив восемнадцати лет до века XXI.
Красноармеец, разгуливавший в февральскую революцию по улицам Киева с заряженным пистолетом, а после октября - посещавший студию знаменитой Александры Экстер. Он с восторгом встретил взятие Киева большевиками, включившись в оформление улиц и площадей революционного города.
Ушел добровольцем в Красную армию, а после службы вернулся в родной Мелитополь, застав там измученных, голодных и ограбленных белогвардейцами родителей. Потом была Москва, поиски себя в живописи, дружба с ым и ом, Мариенгофом и Ахматовой, скандальными и неповторимыми театральными режиссерами Таировым, Мейерхольдом, Михоэлсом и Завадским.
Александр Тышлер воспринимал жизнь как поэт, мысля ее символами и метафорами. Анна Ахматова говорила, что знала только двух художников, по-настоящему понимавших поэзию: Тышлера и Модильяни. Его жизнь и творчество - яркий пример того, как даже в самое «людоедское» время, можно оставаться свободным, воплощая свои причудливые фантазии в сказочно-прекрасный миф о мире и человеке.
Тышлер известен главным образом театральным режиссерам и искусствоведам. В течение своей долгой шестидесятилетней творческой жизни он всегда оставался как бы в тени, находя для себя такие ниши, в которых мог проявиться его уникальный стиль. В свое время на его картины обратили внимание театральные режиссеры, увидев в них необходимую декоративность и театральность.
Сегодня этот удивительно-праздничный, наполненный радостью, любовью и лицедейством мир, можно увидеть в Пушкинском музее, где до семнадцатого сентября 2017 проходит выставка работ этого художника. Монографические выставки Тышлера – редкость. Последняя подобная выставка проходила в 1998-м, почти двадцать лет назад.
Художник никогда ни под кого не подстраивался, никогда не стремился угодить кому-то, даже когда его запрещали, внося в черные списки, когда клеймили страшным словом «формалист» и не выпускали за границу, когда травили и лишали работы, когда объявляли его картины антисоветскими.
Тем не менее, Тышлер считал, что ему крупно повезло жить в такое бурное время, быть свидетелем и участником и «гибельного» советского эксперимента, дожить до оттепели и возрождения русского авангарда, к которому и принадлежал.
Он сумел своим творчеством соединить время смелых первопроходцев двадцатых с временем возвращения к ним в шестидесятые. Его мало волновала слава других, да и своя слава – тоже: от её недоданности он не страдал. После смерти Тышлера жена, разбирая его бумаги, нашла черновик рукописи «О себе», написанный в начале тридцатых для какого-то издания.
На обороте пожелтевших листов от руки написано: «Искренность Любовь к своему ремеслу Знание своего решения». Это и было его жизненное кредо и внутренний закон существования как художника. Все мы родом из детства, не исключение и Тышлер.
Он вырос в среде ремесленников: его прадед, дед и отец были столярами, два брата из четырех - тоже, и фамилия Тышлер в переводе с идиша означает «столяр». Тышлеры были хорошими столярами, особенно отец, вкладывавший в свое ремесло всю душу, органически не перенося халтуры.
Именно от отца художник усвоил любовь к своему делу, трудолюбие и честность по отношению к работе. К тринадцати годам Саша уже точно знал, что хочет стать художником, но сначала были детские впечатления от балаганов, цирка, цыган, народных праздников, воспоминания о которых сопровождали его всю жизнь.
Однажды он увидел бочаров, которые носили на голове тяжелые бочки. Позднее он подумал: если можно нести на голове бочку, то почему нельзя праздничный пирог, корабль, бокалы с шампанским, да и вообще всё?
Становление стиля Тышлера было необычным. Он считал себя самоучкой, несмотря на то, что окончил художественное училище в Киеве, учился в мастерской, а потом в московском ВХУТЕМАСе. Но главным в его формировании стала атмосфера, в которую молодой Тышлер погрузился, переехав из родного Мелитополя в Москву.
Это был совершенно новый мир яркого, праздничного , дышавшего свободой и новаторством, экспериментом и поисками. И Тышлер начал экспериментировать – только у себя дома, занявшись самообразованием. Начал с супрематизма Малевича, заставившего его думать не столько о форме, хотя и о ней тоже, сколько о цвете.
Он погрузился в беспредметность с одной целью - узнать больше о цвете, но только ем здесь не обошлось. Ему понадобился Бехтерев, чтобы сделать для себя неожиданное открытие: есть только два цвета, совершенно по-разному действующие на глаз и нервную систему: синий и красный.
Не случайно, именно эти цвета составляют основу иконописных образов Спасителя и Богородицы. Красный - активный, напряженный, устремленный в Небеса, синий – пассивный, земной, горизонтальный. Но оба цвета укладываются в единую картину диагональю, которая впитывает в себя то красный, то синий.
Результатом поисков стали первые экспериментальные картины под названиями «Светоцветовое напряжение», «Цвет и форма в пространстве», выставленные художником в 1924-м на первой дискуссионной выставке революционного искусства.
Реакция, которую художник встретил, была в основном негативная, в лучшем случае – фальшиво-благожелательная. Врагов стало больше, друзей – меньше. И Тышлер понял: он должен продолжать работать в выбранном им направлении.
Потом было Общество Станковистов (ОСТ) с его миссией создания доброкачественной советской картины. Работая в ОСТе, молодой художник окончательно нашел свой стиль, умение видеть в обычном необычное. Первые такие работы были представлены на выставке остовистов в Историческом музее.
Тышлер вспоминает, что у его картин всегда толпилось много зрителей, критиков и художников. Они спорили, кричали, ругались, не понимая, что хочет сказать художник. В результате его называли то сумасшедшим, то мистиком, то мелкобуржуазным попутчиком и, наконец, назвали антисоветчиком и контрреволюционером.
И всё потому, что никак не могли определиться, к какому направлению его отнести. Его работы нельзя было отнести ни к абстракционизму, ни к сюрреализму, ни к супрематизму, ни к у, ни к импрессионизму, т.к. он научился не следовать, не примыкать, не подражать.
Тышлер шел своим путем, анализируя, пробуя, нащупывая свой стиль методом проб и ошибок. Он научился видеть детали, несуразности, отдельные случаи, необычное поведение, особых людей. Он соединял элементы разных направлений, лучше всего выражавшие его представления о мире и человеке, его темы и его идеи.
"Сознаюсь, я люблю приврать" - пишет он в рукописи "О себе". "Я напоминаю сплетника, а иногда лгуна, который, увидев что-то из ряда вон выходящее, спешит скорей поделиться своими впечатлениями и, рассказывая, так всё преувеличивает, что возникает нечто не похожее на то, что он видел".
У него находят влияние а и , элементы кубизма и импрессионизма, неопределенность символизма, лаконичность примитивизма и контрастность экспрессионизма. Его фантастические образы складываются как особые фантастические машины, все элементы которых выхвачены из реального мира, но, соединенные особым образом, воспринимаются как нереальные утопии.
Театральность, балаганность, символичность и философско-романтическая наполненность присутствует во всех его работах. Его картины – это не просто изображение, это всегда знак чего-то другого: мечты, сновидения, радости, предвкушения...
Здесь почти никогда нет сюжета, образы статичны и похожи на маски, потому что каждый образ – это обобщение, идея, о которой художник хочет поговорить. Но по сути Тышлер прост и наивен, поэтичен и доверчив как ребенок, для которого человек – сам себе и режиссер, и цирк, и театр, и лестница, и балкон. Найдя свой стиль в середине двадцатых, он оставался верен ему всю жизнь.
Саша Тышлер, как его называли знакомые и незнакомые, дети и взрослые, запомнился всем улыбчивым, радостным, сказочным человеком с детской улыбкой. И потому его удивительный стиль не кажется надуманным, для Тышлера он естественен и органичен.
Тина Гай
Интересно? Поделитесь информацией!
Related posts
- Неизвестная история
- Семнадцатый год. "Народ на войне". Фрагменты.
- Владимир Ленин. Взгляд с другой стороны
- Николай Олейников
- Обыкновенный гений
- Серебряный век и революция
- Русская революция. Взгляд с другой стороны
- Андрей Платонов. Роман в письмах
- Сергей Судейкин и "Голубая роза"
- Павел Филонов: художник трагедии


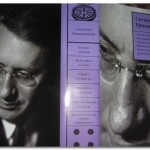


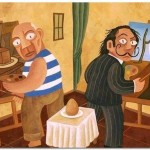
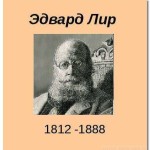


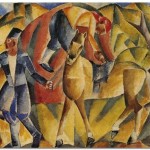



Это верно — наелись!!!
«…почему русский авангард вызывает такое яростное отторжение у многих русских?»
Может быть, потому, что «авангард» в политике, экономике очень сильно ударил по русским, а это подсознательно перенеслось и на художество? «Наелись» разнообразными потрясениями
Я рада, что Вы не стали сходу его отрицать. В нем много детского и радостного, что не может не восхищать.
А я думаю, что мир бы точно поблек, если бы не было Тышляра. По крайней мере мой мир — точно бы поблек, как и миры многих художников и просто зрителей, которых приводят в восторг его картины. То, что сказали Вы, равносильно тому, что сказать: «Мир бы не поблек, если бы на одного ребёнка было меньше». Это самое мягкое, что я могу сказать на Вашу реплику. Моё — не моё: всё очень относительно. Симфоническая музыка и опера, поэзия и цирк — тоже многим не нравятся, но для многих других они — подарок судьбы и Бога. Я восхищаюсь такими художниками, как Тышлер.
Да, о нём как-то многие стали забывать, даже те, кто знал его. А я люблю копаться в своих старых репродукциях и находить вот такие уникальные имена, о которых стоит рассказывать. Никак не пойму, почему русский авангард вызывает такое яростное отторжение у многих русских.
Тина, с Добрым Утром!
Стиль удивительный, необычный!
Не уверен, что мир поблек бы, лишись он произведений Саши Тышлера.
Но такое совершенно не моё и я даже… думаю, что не от силы ума.
Невольно или вольно, но разобраться в подобном подтолкнула меня бульдозерная выставка.
Удивительный художник, мне он всегда нравился, ещё с молодости… спасибо, что напомнили, Тина.