(Начало ) Революцию Малевич встретил с восторгом, особенно февральскую. Она кардинально изменила его судьбу, сделав из него активного участника преобразований. С семнадцатого года начинается период осмысления и теоретического обоснования его живописного супрематизма, блаженной освобождающей беспредметности.
Философско-академический супрематизм
Этот этап длился примерно десять лет. В это время Малевич практически не писал картин, отдавая все силы сочинительству, , , полемике с критиками супрематизма и , преподаванию, и созданию музеев. Это был пик его философской и общественной деятельности.
В его понимании революция была той нуль-точкой, в которой завершается старый и начинается Новый мир. Мир, который он уже строил в своих супрематических полотнах. По своей сути и своему духу Малевич был революционером-романтиком со всеми вытекающими отсюда плюсами и минусами.
Он легко вписался в революционный водоворот преобразований: присоединился к левым художникам, стал комиссаром по охране памятников и членом комиссии по сохранности ценностей, мечтал построить музей .
Мечта быстро сбылась: уже в 1918 году открылся первый Музей и в том же году Малевич начинает преподавать, возглавив мастерскую по изучению супрематизма. Через год, в декабре 1919, проходит юбилейная выставка, приуроченная к сорокалетию художника.
На выставке он представил все лучшие работы: от до супрематизма. Выставка подводила черту поискам и стала символическим итогом предыдущих периодов. Но жизнь в революционной стране становилась все тяжелее: денег не было, жена ждала ребенка, дом не отапливался.
И в это самое трудное время его приглашает к себе Эль Лисицкий, предлагая ему перебраться в Витебск, куда переехал сам и где под руководством Марка Шагала открылось Народное училище. Оно, по замыслу художника, должно было объединить все направления и художественные стили. Малевич согласился и осенью 1919 года приехал.
Витебский период оказался для супрематиста одним из самых плодотворных. В послереволюционном Витебске сложилась к тому времени совершенно уникальная ситуация, позднее получившая название витебского ренессанса.
Марк Шагал, Эль Лисицкий, , Казимир Малевич – это только самые известные имена, приехавшие сюда почти сразу после революции, а была еще театральная, музыкальная и местная художественная интеллигенция.
Малевич провел в Витебске два с половиной года: с ноября 1919 по май 1922. В эти годы он ставит самые дерзкие художественные эксперименты, издает несколько книг и статей, экспериментирует с архитектурными формами - архитектонами, ставшими предтечей советского дизайна.
Здесь он напишет самое главное свое философское сочинение «Супрематизм. Мир как беспредметность, или Вечный покой», закончив его накануне отъезда из города в феврале 1922. По приезду в Витебск, Казимир Северинович стал руководить мастерской в том самом училище, собрав вокруг себя самых талантливых последователей и .
Он был очень требовательным преподавателем, считая, что кроме освоения уже известных техник, ученик должен проявлять самостоятельность и предъявлять нечто новое. Поэтому в Витебске его многие не любили и у него было немало врагов.
Верные ученики составили костяк общества «УНОВИС» (Утвердителей нового искусства), для которого художник написал манифест. УНОВИС был настолько значим для Малевича, что родившуюся в Витебске дочь он назвал Уной. Казимир Северинович строил идеальную, с его точки зрения, систему бытия, в которую верил до самоотречения.
Это сопровождалось агрессивной нетерпимостью по отношению к другим идеям, в частности, ходит легенда, что Марк Шагал вынужден был уехать из Витебска именно из-за трений с Малевичем. И с Татлиным у него отношения не складывались - тоже по идеологическим соображениям.
Малевич стремился внедрить свое Учение в жизнь всего Человечества, отказывая в этом всем остальным. В своей главной книге "Мир как беспредметность" он оппонирует Шопенгауэру, считая, что воля – это агрессия, а надо строить мир на основе любви и познавать не истину, а единство и целостность.
Вопрос, стоящий в центре Учения Малевича, - вопрос о смысле культуры. Он утверждает, что вся культура, искусство в том числе, оказалась ложной и несостоятельной, потому что ставила перед собой только утилитарные цели и искала практического применения.
А практически ориентированная культура не может быть истинной, поскольку в ее основании лежит ошибка, именуемая прогрессом. стремится к завершенности, которой в принципе нет и быть не может. Он доказывает иллюзорность общественной жизни, уподобляя ее сумасшедшему дому, где больные принимают за реальность свои галлюцинации.
Этот диагноз, поставленный Малевичем всему человечеству, лечится супрематизмом, беспредметностью. Супрематист - это врач, который должен помочь человечеству осознать свою болезнь, проснуться от сна и иллюзий, от видимой предметности и выйти в Бытие, обнаружить себя в Нём. Главное – это чувства, освобожденные от предметности. В этом – пафос его главного .
Весной 1922 года Малевич едет вместе со своей группой УНОВИС из Витебска в Петербург, продолжает здесь преподавать и участвовать в выставках. Вторая персональная выставка художника (1923) была приурочена к двадцатипятилетию творчества.
В 1924 году художника назначают директором института художественной культуры (ГИНХУКа), но через два года его закрывают. На следующий год Казимиру Малевичу разрешают выезд за границу со своими картинами - в Польшу и Берлин. Супрематические полотна за границей встречают очень тепло и даже восторженно.
Но вскоре его вызывают обратно, Малевич срочно пишет на случай своей смерти завещание и оставляет все (около семидесяти) вывезенные картины и книги в Берлине на попечении архитектора Херинга, сохранившего их почти полностью, и возвращается в Россию. После войны картины будут проданы в Амстердамский музей, но пятнадцать картин из коллекции исчезнут бесследно.
Постсупрематизм или Послесловие
В России художника арестовали, обвинив в шпионаже в пользу Германии, но через месяц выпустили. В Третьяковской галерее начинается подготовка новой персональной выставки, приуроченной к пятидесятилетию Малевича (1929). И многие картины, оставленные в Берлине, ему приходится писать заново: часть из «Крестьянского цикла», часть из периода импрессионизма.
Тогда же он написал третий Черный квадрат, т.к. прежний, 1915 года, находился в неудовлетворительном состоянии. В этот год Малевича назначают наркомом отдела изобразительного искусства, но это не спасает его от второго ареста в 1930-м. Теперь его обвиняют в антисоветской пропаганде.
Постепенно художник возвращается к фигуративной живописи, отказываясь от «блаженного чувства освобождающей беспредметности», от анонимности ликов, ярких плоскостей и пишет неподвижные застывшие фигуры, лишенные полета, с вполне конкретными лицами.
В 1933 году Казимир Малевич создает последний автопортрет в духе эпохи Возрождения, напоминающий автопортрет Дюрера. Его рука открыта и готова к действию, но останавливается в полу-жесте. Подписывает художник свою картину .
Малевич решает встать на службу социалистического общества и начинает создавать утилитарно-полезные вещи – дизайн чашек, тканей, одежды, делать то, против чего он выступал в своей главной книге. В 1933 году у художника диагностируют рак предстательной железы, а на следующий год соцреализм официально становится идеологией советского искусства.
Малевич болел тяжело и заканчивал жизнь в нищете. Скончался он в мае 1935, завещая похоронить себя в гробу собственного дизайна. На крышке гроба был его любимый . Гроб сделали по эскизу художника. Потом тело кремировали, прах захоронили на даче Немчиновка, под любимым дубом, на котором прибили памятную дощечку.
На могиле с прахом установили памятник с красным квадратом, но в военное время могила была утрачена, а смерть Казимира Малевича означала конец всей эпохи , составивший славу русского искусства XX века.
Тина Гай
Интересно? Поделитесь информацией!
Related posts
- Пьер Абеляр. У времени в плену...
- Уильям Блейк: "жалкий безумец"
- Григорий Померанц. Избранные цитаты
- Пифагор: легенды и притчи
- Живущий в уединении
- Блёз Паскаль и его философия
- Спиноза. Часть 1
- Макс Эрнст
- Рене Генон. Рыцарь Традиции
- Древнекитайская философия

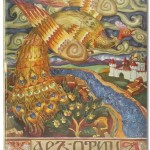
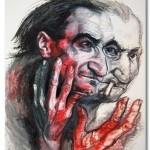
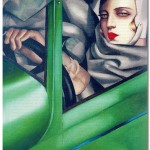
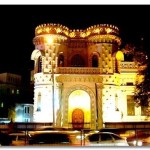
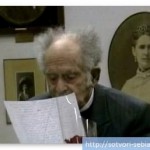
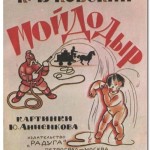
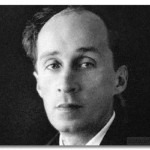
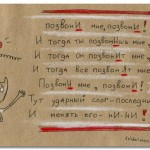
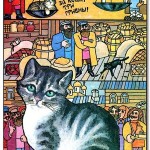
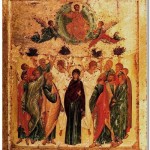


Не согласна Черный квадрат — это не про живопись, а про концепцию искусства. Поэтому рассматривать там действительно нечего. Там надо включать мозги. А поскольку многие, приходя в картинные галереи, вовсе не рассчитывают на то, что от них потребуется интеллектуальные усилия вместо потребления красивых картинок с женщинами и природой, то и уходят они разочарованными. Так случилось со всем русским авангардом, в чей адрес до сих пор кидают комья грязи, обвиняя во всех смертных грехах. Вздох облегчения — это от оправдания собственного непонимания. Мальчик произнес «А король-то голый» и все дружно обрадовались тому, что их непонимание художника можно объяснить вот таким пошлым образом. Мальчику простительно, непростительно взрослым дядям и тетям.
В 1969 году, как лучший ученик, я был награжден бесплатной поездкой в Ленинград, где оказался в толпе взрослых людей, которые с умными лицами стояли и рассматривали картину Малевича «Черный квадрат»…Наконец я задал гиду вопрос, который был на языке у всех зрителей: «В чем ценность «Черного квадрата»?»…Почувствовался общий вздох облегчения, и все благодарно посмотрели на меня… К сожалению, философия абсурда необъяснима…
«Черный цвет – табу в живописи. Точка. Но Малевич превратил эту точку в запятую…»
____________________________________________________________
Как всегда, интересно! Не знала, что на черный цвет в живописи наложен запрет. В иконописи точно знаю, что его действительно не используют, заменяя темными цветами, но про живопись в обычном понимании — не предполагала. Это очень интересно и тогда то, что сделал Малевич — вдвойне революционно. Малевич «высосал» все мои силы. Очень сложный, тяжелый и глубокий художник!!! Для меня — точно. М.б. для другого — нет. Но судя по тому, что на тексты о нем очень мало откликов, делаю вывод, что многие его просто не понимают. Отсюда и раздражение, и неприятие, и замалчивание. Гораздо легче пропустить, отмахнуться, чтобы не забивать себе голову. Понимание его философии требует больших усилий, а без ее понимания невозможно понять и его живопись. Они взаимосвязаны и одно объясняет другое. Жаль, что он «изнемог» и «возвратился на пепелище», но выдержать такую нагрузку, прежде всего интеллектуальную (при том, что у него не было специального систематического образования ни в живописи, ни в философии), человеческому духу очень сложно. И, как оказалось, даже для Малевича это оказалось невозможным.
_________________________________________________________________
«Русский авангард уходил в подполье, набирая сил».
________________________________________________________________
После его смерти (1935 год) поле практически уже было зачищено. Правда, кое-что еще осталось для 37 года, но это были уже последние крохи. Из художников уже почти никого не осталось. Пожалуй, из авангардистов — только один Филонов, да еще его ученик Зальцман, но расцвет творчества Зальцмана придется уже на послевоенные годы. А Филонов доживал последние годы и тоже в нищете и голоде.
_________________________________________________________________
Но м.б. я и не права.
Конец русского авангарда !??
Вернемся к «квадрату». Он остается притчей во языцех и по сей день.
Вспоминаю художественную школу и простой опыт, который может повторить каждый.
Вырежем из журнала любую картинку ( квадратную) и ещё один такой же квадрат из белой бумаги. Закрасим их черным цветом и наклеим сии творения на светлый фон.
Получим «две разные черноты» — одна нейтральная, но другая почему-то беспокоит. Её разглядывают, вертят, пытаются заглянуть …Око не видит, а подсознание ощущает…конфликт восприятия!
Черный цвет – табу в живописи. Точка. Но Малевич превратил эту точку в запятую…
Открылись доселе необыкновенные перспективы. И в психологии восприятия и в новых изобразительных методах…приблизился Новый мир.
Невиданный Новый мир!
За глухой стеной проявилась новая жизнь.
Но, тут «изнемог высокий Духа взлет…» сил на развитие направления у Малевича уже не было.
Он «возвращается на пепелище» и даже пытается что-то рисовать, но…
А тем временем:
Русский авангард уходил в подполье, набирая сил.
— Конец? – нет, ещё не конец! ( И – цзин)